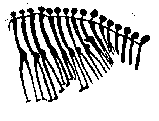Михаил Сухотин
ЦЕНТОНЫ и МАРГИНАЛИИ
Вступительная статья
В своём обзоре «Некоторые другие» (журнал «Театр» 4, 91 г.) М. Айзенберг
пишет о моих стихах : «Личное начало уходит не только из интонации, но
и из стиля. У вещей Сухотина как бы коллективный автор; это род поэтического
медиумизма». Статья Айзенберга тонка, и спасибо, что она вообще есть. Но
вот к «уходящему личному началу» и к «медиумизму» хотелось бы внести поправку.
Поэзия ведь не столоверчение, и там, где автор имеет дело с «уже произнесенным»,
так или иначе, словом (а что, разве бывает по-другому?), не работает ли
такая «коллективность» как раз лично на него самого? «Чужое» слово, ведь
его ещё сказать нужно уметь. А там посмотрим, у кого и как поведёт себя
это самое начало.
Вероятно, ту же мысль об «уходе личного» имеет в виду и автор статьи
о прошедшей примерно тогда же в Москве конференции по постмодернизму, появившейся
вслед за ней в «Независимой Газете». Там сказано: «стопроцентные центоны
Сухотина». Но и «стопроцентность» — иллюзия того же порядка.
Так что прежде всего я хотел бы заверить всех и засвидетельствовать,
что «уходить» из своих сочинений никоим образом и никогда не входило в
мои намерения. По-моему, не надо специально присматриваться, чтобы увидеть
: стихи эти в большей их части (даже чисто количественно) составляют не
цитаты или парафразы, а собственно авторская речь. Аллюзии интересуют меня
лишь в той мере, в которой на них может быть построена поэтическая речь.
Она просто опирается на «то, что уже сказано» (кстати, точно так же она
часто опирается на визуальные структуры текста как на выразительное средство)..
Сознание же относительности, зыбкости всего «старого» и «нового» в искусстве
особенно ясно выражено у Мандельштама :
Всё было встарь, всё повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.
(Tristia)
Но это не сознание финала. Иллюзорность «старого-нового» не отрицает «подлинного-неподлинного».
Есть сущностное и несущностное, есть даже несущественное, и граница здесь
как раз безусловнее, может быть, чем где бы то ни было. Л.Липавский, например,
целый словарь хотел составить из сущностных значений вещей и понятий.
Таким образом, поэтическая речь, опирающаяся на аллюзии, отнюдь не
отменяет отношений между автором, читателем и тем, что написано. Она лишь
несколько смещает слишком, может быть, привычные для них и оттого стирающиеся
акценты. Причём смещает их очень направленно: в сторону не устного, но
именно письменного слова.
За точку отсчёта берётся книжность. Разговорная же речь вступает с
ней при этом в совершенно особую взаимную зависимость. Оказывается, что
о чем бы тогда ни шел разговор, он может служить неизменным поводом выяснения
принципиальных, с моей точки зрения, для поэзии, как и вообще для
искусства, отношений: кто, как и при каких обстоятельствах сказал (написал),
говорит (пишет) или мог бы это сказать (написать)? В самом деле, кому:
Пушкину с Лермонтовым, Ли Бо с Ду Фу или автору этих строк следовало бы
приписать данное высказывание:
Ведь, Мурка
светит
свет,
и время
временит...
Ли Бо сказал:
«Печаль полна тобою».
Пишу
в ответ ему
с Ду Фу
как на духу:
«Не жду от жизни
ничего я».
На каком основании мы в конце концов отдади кому-то из них предпочтение?
То есть речь, собственно, о диологической природе речи.
Так очерчивается уже имеющий, как и центоны, название, отнюдь не являющийся
никаким изобретением жанр. Это маргиналии, записки на полях книги, то,
что пишется по поводу только что прочитанного, сопоставляется с ним. Борхес
предлагал вместо многочисленных писательских обществ организовать одно
«Содружество Читателей». Книга — вообще сущностное культурное понятие.
Евреи, например, учат, что каждый человек — буква в книге жизни, и он должен
вписать хотя бы одну букву в Тору (имеется в виду свой способ её прочтения
и интерпретации, какое-нибудь своё особое наблюдение, но только сущностное).
Ясно, что Тора здесь понимается широко, а не только как предмет из пергамента
или бумаги, покрытой типографской краской. Этому есть и очевидное подтверждение
в одной из агадот, где утверждается, что Тора была до сотворения мира:
Творец смотрел в Тору и творил мир (р. Хошайя в «Берешит Рабба»). Еврейская
книжность вообще вся маргинальна. Заглянуть хоть в Гемару, хоть куда угодно, —
всё уточнения, комментарии к уточнениям, добавления к комментариям к уточнениям
и т.д.: рамка в рамке.
Что же до центонов, то до 85 года, когда я случайно нашел это слово
в словаре иностранных слов и сразу узнал в нем название тому, что меня
интересует в искусстве, мне этот термин ни в какой критической литературе
днем с огнем и не попадался. Так что я, наверное, должен извиниться, но
у меня и по сей день сохраняется впечатление (возможно, ошибочное), что
я же и ввел его в литературный обиход. Стихи, впрочем, такие как «Люблю
тебя, Петра творенье...» В. Некрасова, были, конечно, известны. Как бы
то ни было, но в том, что сегодня часто называют центонностью, имея в виду
не только литературную (по определению жанра), но вообще любую цитацию
«общих мест» сознания и языка, обеспечивающую неповторимость чуть ли не
всей новейшей русской поэзии, — в этом, по-моему, очень мало общего с той
самой неповторимостью, и уж едва ли что-то — с тем, что я этим словом для
себя обозвал 10 лет назад, да и сейчас называю. Тут все дело в том,
кому и зачем центоны понадобились. Если только для того, чтобы оранжировать
и без того коснеющую художественность в той системе отношений между автором,
читателем и текстом, которую автор в самом ее принципе оживлять ничем не
заинтересован, то, может быть, естественней было бы обойтись без подобных
украшений?
Ведь центонность, как и маргинальность — общие свойства, присущие всей
русской поэзии. Их можно проследить буквально на всём её протяжении. Например,
аллюзия к «Вечернему размышлению о Божием величестве при случае великого
северного сияния» Ломоносова в элегии Батюшкова «К другу» и их связь со
стихотворением Мандельштама «На страшной высоте блуждающий огонь». Ещё
примеры : поэма О. Седаковой, написанная по канве легенды о Тристане и
Изольде, «Когда был Ленин маленьким» Т. Кибирова, или роман-комментарий
В. Набокова «Бледный огонь».
Но мне интересно понять каждое из этих свойств как качество своего
жанра. Насколько эти жанры индивидуализируемы — можно спорить. Всё же я
убеждён, что жанр складывается и выявляется отнюдь не из спиритических
сеансов и не из сообщений ТАСС, где «личное уходит из стиля» (куда? В пятки?),
но лишь вопреки такой иллюзорности отсутствия. Чувство жанра — это вообще
прививка против всех подобных «уходов», которые следовало бы назвать тем,
чем они в прямом смысле и являются, а именно «немотой».
Вот, например, стихи такого неповторимого лирического поэта как М. Соковнин.
Куда уж, казалось бы, более общее качество, чем простое перечисление, номинация
(которая и до него была в чести, особенно у обэриутов). А ведь именно он
увидел в нём жанр, начал писать и назвал «предметниками», так что теперь
все поэтические перечисления невольно так называть хочется.
М.С.
ДРУГ МОЙ МИЛЫЙ
TRISTIA
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СТРАНИЦЫ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
МАГИНАЛИИ
МАМА МАМ (маргиналии к «Третьему Завету» А. Н. Шмидт)
РЕЧЬ ИДЁТ (маргиналии к Французской Книге)
СВОЕ И ЧУЖОЕ В ПОЭМЕ М. СУХОТИНА "РОЗА ЯАКОВА"